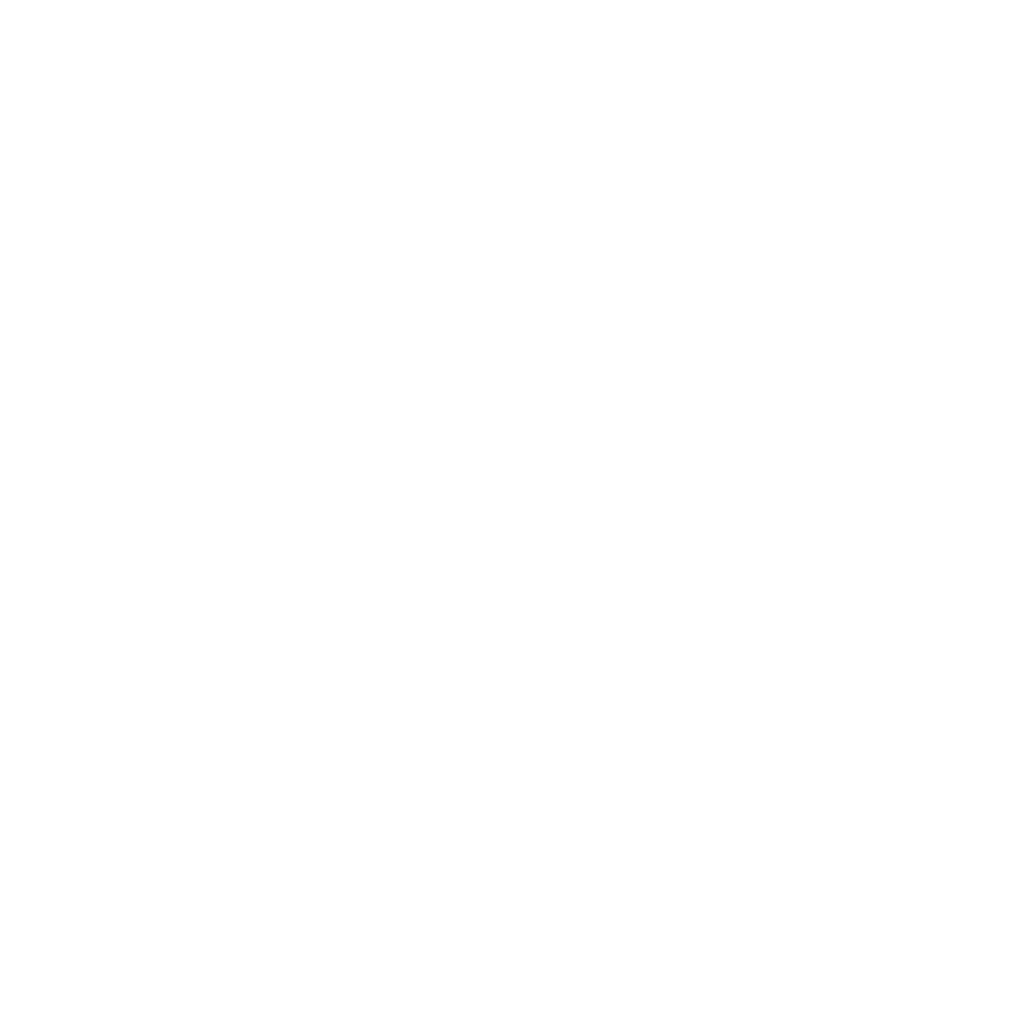Онлайн-курс по зарубежной литературе: от Маркеса до Джойса, от Кортасара до РилькеАвторский курс Леонида Немцева Погрузитесь в шедевры мировой литературы — от Малларме до Кункейро Курс Леонида Владимировича Немцева — это вдумчивое путешествие по произведениям, которые формировали культуру, философию и литературу XX века. Эти тексты помогают говорить о главном — времени, памяти, любви, одиночестве, надежде и утрате. 📘 13 лекций — более 35 часов увлекательного и глубокого контента 🌍 Авторский разбор — в контексте философии, истории и культуры 📅 Свободный график — смотрите в любое время, вечный доступ 🎓 Идеален для преподавателей, читательских клубов и всех, кто хочет понимать литературу глубже 💳 Стоимость — 9600 рублей, возможна рассрочка |
О КУРСЕ
Маркес был уверен, что поэзии больше в прозрачности языка. Джойс считал Льва Толстого изумительным, великолепным писателем. А Рильке утверждал, что мы не вправе открывать ни одной книги, если не готовы прочитать их все. И теперь мы встретим их в цикле лекций о литературе вместе с несколькими лучшими друзьями, такими как Борхес и Кортасар.
Великие писатели читали много и страстно. Их мир в кругу настольной лампы был намного шире и удивительнее, чем мир самой выверенной реальности. И любая встреча с ними – настоящий праздник.
Однажды войдя в нашу жизнь, они навсегда остаются с нами. Иногда их нужно переспрашивать, перелистывать их творения, не изменилось ли что-нибудь в книгах, которые мы, казалось бы, уже прекрасно знаем.
А там всё время что-то меняется. Это странно, но книги не похожи на могильные плиты, даже если их долго не трогать. Они живут не только своей жизнью, но и жизнью всего мира, которая ещё как-то забегает вперед. В книгах всё время остаётся что-то, что может удивить и встряхнуть наше представление о нас самих и о нашей реальности, которая как раз норовит улечься неподвижно и замкнуться на самой себе.
Чтение – это не раз и навсегда обусловленный ритуал, это приключение. Вот и проверим, что могло измениться в знакомых книгах, а заодно заглянем в незнакомые, обойденные вниманием по случайной причине. Нет ли там известий, которых нам давно недоставало?
Курс состоит из 13 лекций:
1. Стефан Малларме.
2. Гюисманс
3. Гийом Аполлинер
4. Мисима
5. «Улисс» Джойса
6. Новый Орфей: Райнер Мария Рильке
7. «Записки Мальте Лауридса Бригге» Рильке
8. Борхес
9. Рассказы Кортасара
10. «Игра в классики» Кортасара
11. Маркес
12. Маркес "Сто лет одиночества"
13. Альваро Кункейро
Великие писатели читали много и страстно. Их мир в кругу настольной лампы был намного шире и удивительнее, чем мир самой выверенной реальности. И любая встреча с ними – настоящий праздник.
Однажды войдя в нашу жизнь, они навсегда остаются с нами. Иногда их нужно переспрашивать, перелистывать их творения, не изменилось ли что-нибудь в книгах, которые мы, казалось бы, уже прекрасно знаем.
А там всё время что-то меняется. Это странно, но книги не похожи на могильные плиты, даже если их долго не трогать. Они живут не только своей жизнью, но и жизнью всего мира, которая ещё как-то забегает вперед. В книгах всё время остаётся что-то, что может удивить и встряхнуть наше представление о нас самих и о нашей реальности, которая как раз норовит улечься неподвижно и замкнуться на самой себе.
Чтение – это не раз и навсегда обусловленный ритуал, это приключение. Вот и проверим, что могло измениться в знакомых книгах, а заодно заглянем в незнакомые, обойденные вниманием по случайной причине. Нет ли там известий, которых нам давно недоставало?
Курс состоит из 13 лекций:
1. Стефан Малларме.
2. Гюисманс
3. Гийом Аполлинер
4. Мисима
5. «Улисс» Джойса
6. Новый Орфей: Райнер Мария Рильке
7. «Записки Мальте Лауридса Бригге» Рильке
8. Борхес
9. Рассказы Кортасара
10. «Игра в классики» Кортасара
11. Маркес
12. Маркес "Сто лет одиночества"
13. Альваро Кункейро
| НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ СЕЙЧАС |
ПРОГРАММА КУРСА
-
Стефан Малларме
После смерти Верлена Стефан Малларме был объявлен «королем поэтов» и для многих это стало неожиданностью. Гюисманс в романе «Наоборот» назвал поэзию Малларме наиболее утонченной, достигшей пределов чувственного выражения. Малларме – один из «проклятых поэтов» и главный создатель символизма. Его влияние проявляется уже в том, что в последние 150 лет мировая поэзия отказалась от знаков препинания (хотя в России, никогда не любившей школьные уроки «Русского языка», игры с языком и грамматикой до сих пор встречают только агрессивную реакцию).
Его поэзия – снежная вершина Монблана, которую мало кто отваживается брать. Это поэзия элитарная и герметичная, но её нельзя игнорировать тем, кто совершает восхождение на вершину духа и ищет подлинную поэзию.
Малларме начинает выражать не предмет, а его сверхчувствительное переживание. Он познал язык так, как будто сам его создал (так о нем говорит Валери). Он стремился не писать книги, а создать Книгу, одно единственное орфическое истолкование Земли. К тому же Книга должна была восполнить всё, что было потеряно с исчезновением «христианского мифа» и утратой классической культуры.
Вслед Малларме идей сверхтекста мучился Кортасар, а Герман Гессе и Томас Манн описывали зыбкую границу между подлинной Книгой и полной профанацией, в которую рухнуло современное искусство.
Одно неизменно – поэзия Малларме осталась по ту сторону границы, где искусство ещё было подлинным.1 -
Гюисманс
Жорис Карл Гюисманс начинал как искренний представитель натуральной школы (в России они стали называть себя реалистами), но вместо того, чтобы описывать негативную сторону жизни, критически осмысляя её, он, наоборот, написал книгу о состоятельном герцоге Дез Эссенте и его непомерно развитой чувственности. Последовательный и совершенно научный натурализм вылился в гиперэстетизм, потому что внимательное изучение любого вопроса лучше говорит о сложном жизненном замысле и о божественной красоте природе.
Прототипом дез Эссента (фамилия его как будто происходит от слова «эссенция», концентрированный раствор в парфюмерии и «самая суть» в философии) стал граф де Монтескью, который так же перевоплотился в барона де Шарлюса, одного из самых заметных героев романов Пруста.
Дез Эссент – гурман, эстет, гедонист. Он услаждает обоняние, зрение, слух и чувство равновесия. И в конце концов, погружается в поэзию. Именно Гюисманс принёс славу "проклятым поэтам", потому что их выбрал его утонченный герой.
Роман «Наоборот» — это роскошное и изысканное чтение, которое лорд Генри рекомендовал Дориану Грею. При этом роман как будто аккумулирует силы перед ужасающей профанацией искусства, которое должно произойти в XX веке.
Это строгий философский анализ чувственных предпочтений и эстетических опор в поиске утраченной подлинности.2 -
Гийом Аполлинер
Гийом Аполлинер - один из самых нежных и грустных поэтов, его называют последним трубадуром. Это не значит, что он творил в духе "темного Средневековья". Поэзия Средневековья сияла и журчала, как майский ручей, а Аполлинер был мостом между этим светом и техногенной современностью. Ему принадлежит много открытий в области искусства, он автор самой удивительной фантасмагории «Груди Тересия», это он придумал термин «сюрреализм» и графическую поэзию (каллиграммы).
Он имел польские корни, обожал книги и ради получения французского гражданства пошёл на Первую мировую, был ранен в голову – и даже это послужило ему метафорой рождения Афины из головы Зевса.
Его звали Вильгельм Костровицкий, а Аполлинарий - одно из его имен, превращенное в фамилию-псевдоним, хотя он имел право назвать себя Орфеем, к которому обращено большинство его стихотворений, ведь орфизм - единственная религия всех поэтов во все времена.
Изобретатель пронзительных метафор и певец сверхчувственной меланхолии оказался одной из жертв эпидемии испанского гриппа. Он называл язык «красной рыбой в бокале голоса» и видел небо потрескавшимся, как высохшая земля. Вослед Рембо он считал, что абсурдное и героическое имеют равные права. Он сравнивал свою любовь с полноводной Сеной и остался самым трогательным певцом несчастной любви.3 -
Мисима
Автор самого читаемого японского романа «Золотой храм», он всё ещё кажется свежей загадкой, а прошло уже столько времени.
Мисима представляет собой гениальную противоречивость. Долгоt время он был хилым ботаником, как вдруг его фотография попала на обложку журнала по культуризму. Долгое время он упивался европейской культурой, как вдруг выступил в защиту традиционных японских ценностей, главная из которых – божественная фигура императора. Он что-то знал о Японии, чего не знают любители «цветущих сакур».
Эстетика Мисимы в самой поверхностной формуле выглядит так: уничтожение красоты делает мир сильнее, а уничтожение себя делает тебя миром. Только каждая его книга не похожа на другую и «Золотой храм» - роман о японском Герострате – более европейский, чем кажется.
Три раза Мисима номинировался на Нобелевскую премию, а в итоге собрал вооруженный батальон, захватил военную базу в центре Токио, предъявил требования и совершил сэппуку.
Это далеко идущий замысел или поражение? И можно ли в его творчестве увидеть что-то большее, чем поражение? «Стремление к совершенству не имеет конца и продолжается всю жизнь». А может быть, и после неё…4 -
«Улисс» Джойса
Один день из жизни Дублина, одна супружеская измена, одни похороны и одно духовное рождение, при этом нет ни Первой мировой (когда писался роман), ни конца света (которого все ждали), ни «Красной Пасхи» (восстания ирландцев). Из мыслей обывателей, некоторых даже очень образованных, ткется повествование высшего порядка.
Героем романа является Дублин, город, включающий в себя все символы мира: и топографический замысел – только один из ключей. Три потока сознания древних героев Одиссея, Пенелопы и Телемака, которые до 16 июня 1904 года дошли в весьма потрепанном виде, обратившись Блумом, Молли и Стивеном с весьма говорящей фамилией Дедал. А в целом это роман с 18-ю точками зрения, использующий столько же художественных стилей (а то и больше).
По сути, нам откроется грандиозная пародия – на что? На всё, что только можно вообразить, но прежде всего, на божественный замысел, включающий в себя этап человеческой культуры от «Илиады» до «Фауста» плюс кое-что из современной мишуры.
Почему тогда этот роман был запрещен в США и запрет продержался до 1932 года? Почему же Сергей Эйзенштейн мечтал экранизировать «Улисса» и по этому поводу даже наведывался в Париж к его нервному автору? Почему без этого романа уже нельзя представить себе пейзаж современной литературы, на котором он по-прежнему остается одним из самых величественных?
Потому что перед нами новый лабиринт Дедала и пройти по нему можно только одним способом – став вовлеченным и рискующим читателем. Где-то этому читателю обещано преображение и обретение идентичности, где-то – переживание подлинной эпифании. Да и мы не хотим оставлять его без надежной поддержки.5 -
Новый Орфей: Райнер Мария Рильке
После Малларме трудно было отважиться на покорение самых высоких снежных вершин поэзии. Но есть один поэт, которого, по крайней мере, стоит подозреваться в том, что он тоже на них взобрался. Это Райнер Мария Рильке.
Австрийский поэт, родившийся в Праге, он стал мировым Орфеем, путешествующим, любознательным, творящим. Он открыл для себя Россию, «страну незавершенного Бога», а потом Францию, где посвятил книгу Родену, потом Италию. Его учениками, поклонниками, жрецами были Борис Пастернак, Марина Цветаева, Оден, Эшбери, Пинчон, Гадамер и многие другие.
Феномен Рильке в том, что он вобрал в себя все идеи и стили модернизма, привел их в порядок, превратил немецкий язык в идеальную форму передачи самых сложных и самых глубоких смыслов. Он стал вратами в поэзию XX века, которые невозможно миновать. Орфей переселился в него.
Чтение Рильке – это уже священнодействие. И, может быть, самые лучшие наши переживания, откровения и прозрения, хотя мы и не знаем об этом, вычитаны у Рильке.6 -
«Записки Мальте Лауридса Бригге» Рильке
Единственный роман Рильке был издан в Париже в 1910 году. Мысли главного героя, в которых больше экспрессионизма, чем автобиографии. Книга во многом написана в подражание скульптурам Родена, это аккуратные удары по зубилу, приставленному к чувственной, эпохальной, словесной ткани.
Некоторые моменты текста приближаются к стихам в прозе, но читая эту книгу, надо видеть её рельефные образы. Собственно «умение видеть» и является её главным содержанием. Видеть не внешний облик вещей, а их первозданную красоту.
Книга появилась намного раньше великих творений Джойса, Пруста, Кафки, Андрея Белого. Она казалась слишком необычной для ещё неподготовленных читателей.
Это крайне аккуратная, взвешенная и умная проза. Для того, чтобы увидеть мир, его нужно создать для себя заново. Мир умеет грустить и быть невероятно прекрасным, хаотичным, безумным и абсолютно живым.7 -
Борхес
Образ индивидуального рая у Борхеса был определен с детства. Это библиотека. Все сюжеты, все темы, все свои мотивы он вычитал в книгах, в таких книжных закутках, куда обычный человек не заглядывает или проскакивает по невнимательности. Поэтому Борхес раскладывает перед нами отборные редкости.
Печально, что, если он и верит в бессмертие, то только в виде бесконечного хранилища «Вавилонской библиотеки», в которой не все книги можно читать и большая часть сокровищ – настоящий ад для читателя. Поэтому его персонаж Хорхе замуровал Алеф, точку, в которой являли себя все точки мира.
Прежде всего он интеллектуал. Его стиль не мешает мысли, а метафора избегает красивости, чтобы передать мысль. Его рассказы – не рассказы в привычном смысле, а схемы великих произведений, это мысли о романах или научных исследованиях, сценариях, драмах, поэмах, но на осуществление всей этой махины у него нет времени, он делится идеями, подсказывает ходы и приемы.
Борхес уводит литературу в область сложнейшей формулы, разрабатывает условия для экспериментов. Но в выигрыше всегда остается поэзия. Поэзия удивления, поэзия новости. Поэзия мысли.8 -
Рассказы Кортасара
Хулио Кортасар – удивительный писатель, понятный читателям всего мира. Родным он кажется и русскому читателю, а сам при этом учил русский язык, чтобы читать Достоевского. Он обожал джаз и не только писал критические статьи о нём, он воспевал музыку в своих рассказах и романах и сам сочинял танго, проникнутое буэнос-айресской грустью (ищите пластинку «Тротуары Буэнос-Айресса», 1980).
Кортасар создал стиль, построенный на потоке сознания и аргентинском говоре, который как будто просачивался в щель между реальностью и сном. Не совсем правильно относить его прозу к «магическому реализму», так как реальность для него иллюзорна, грустна или чудовищна, а вот магия, напротив, по-домашнему уютна.
В джазовой импровизации было правило – избегать шаблонных приемов, хотя нельзя далеко уйти от ведущей темы. Каждый поворот фразы – ход конем, попадание в нервный узел, чувственный пуантилизм. Из его чувственных вспышек складываются огромные картины, выверенные и гармоничные, когда смотришь издалека. Но далеко от этого писателя не отойти, он притягивает.
Проза Кортасара – это приливы и отливы настроения, переживаний, деталей, страхов и самого чистого интеллектуализма, который создаёт магические связи между вещами и заговаривает зубы смерти.9 -
«Игра в классики» Кортасара
«Игра в классики» - роман, знаменитый тем, что его можно читать двумя способами. Классическим, то есть линейным (при этом название никак не связано с «классиками мировой литературы», с которыми играет любой амбициозный литератор). И – двигаясь прыжками, роясь по книжке, как по интерактивному лабиринту, в поиске путеводной нити. И этот роман написан в 1963 году.
Классики – это детская игра, когда надо прыгать и толкать биту, стараясь не попасть на меловую линию. Любая линия – порог, переход «по ту сторону». Герой романа стремится прыгнуть в другую реальность, а автор старается перепрыгнуть границы привычного языка и раз и навсегда установленных правил. Поэтому всё дело именно в границах.
На границе нас поджидает смерть – в виде исчезнувшей любимой, символической смерти любви или в виде женщины-композиторши, исполняющей свои «пляски смерти» дождливым парижским вечером почти что пустому залу. Но если обычно человек до границы не доходит, то тут её стараются перепрыгнуть, чтобы сбежать из чуждого «Города» и попасть в «Зону» к своим.
Трагедия или депрессия всегда держатся на жестких правилах игры. Нащупав просвет в логике, правила можно изменить, можно перерисовать мировую мандалу, начертить другие клеточки «классиков», в которых рай будет доступен, а ад можно будет оставить нетронутым между двумя вечно повторяющимися прыжками.
Если согласиться один из своих.
Читатель.10 -
Маркес
Маркес – это уже само по себе магическое имя, оно означает мир, к которому хотят быть причастны многие читатели. Оно почти равно названию города Макондо, в котором происходит действие почти всех произведений Маркеса. При этом автор отказывался признавать этот город вымышленным. Его Макондо – это область детских воспоминаний, когда-то услышанных историй и событий, свидетелем которых он сам был. Это быль! Вот реальность как раз под подозрением, в ней случается много такого, во что невозможно поверить.
Всё творчество Маркеса, как в истории о Трое, складывается вокруг одного города, одной семьи и одного одиночества, всеобщего свойства человеческой натуры. Само одиночества может стать персонажем. Как бывает в хорошем эпосе, за образом живого человека стоит абстрактное понятие, а за абстракцией скрывается весьма интересный персонаж.
Маркес писал свой эпос до прославившего его романа и после него. Может быть, все его книги похожи, а, может, каждая из них содержит новый взгляд на мировую историю? История одна, а взглядов на неё бесконечное количество. Вот почему мы то замираем в ужасе, то смеемся от счастья, читая одни и те же страницы. Смерть может явить себя в образе «палой листвы», красивый лайнер окажется метафорой лучшей жизни, а усопший из рассказа «Самый красивый утопленник в мире» станет олицетворением беззаботного счастья.
В конце концов, воображение не просто украшает жизнь, а преобразует её. А образцом писательского воображения давно стала литература Латинской Америки. И Маркес – это её самый знаменитый представитель.
А значит Маркес – не морок и мрак, а маркер подлинности и творческой свободы.11 -
Маркес "Сто лет одиночества"
«Сто лет одиночества» - это трагическое название, но у большинства читателей при его упоминании начинается нервный зуд и на лице возникает широкая улыбка. Видно, что все они жители местечка под названием Макондо, которое принято путать с вожделенным раем, с местом некой общности и единения.
При этом история Макондо – это история кровавых войн, диктатур, эгоизма и похоти, постоянно доходящей до инцеста. Как это можно любить? Любовь тут сродни с постижением своих истоков, уходящих корнями в легенды, слухи, коллективные травмы и прочую глубину бессознательного.
А в самой глубине – или хотя бы на подступах к ней – уже лежит манускрипт Мелькиадеса, в котором на чистом санскрите уже рассказано всё, что должно произойти с семьей основателей Макондо – Доброденных, то есть Буэндиа. При этом волшебник не определяет будущее, он лишь фиксирует его обстоятельства. Да и прочитать этот труд может только тот, кто немножко сходит с ума и отвлекается от семейных забот и продолжения рода.
Род Буэндиа символизирует целый народ, которому сопутствует священный эпос, наподобие Великих Заветов. А какое у народа может быть одиночество?
Вот почему это всё так чудно и страшно. Страшно, что всё, как и в Священных книгах, заканчивается Большой Катастрофой. А чудно, потому что мы как будто бы стали свидетелями истории человечества. И всё ещё остаемся к ней причастны.12 -
Альваро Кункейро
Поговорив о творчестве Габриеля Гарсиа Маркеса, мы не можем пропустить тот факт, что сам Маркес признавал большое влияние на своё творчество Альваро Кункейро, писателя из Галисии (северо-западного региона Испании). И бабушка Маркеса была галисийкой, она и рассказывала ему перед сном легенды, из которых произрастают образы «Ста лет одиночества». До того, как у Маркеса в небо вознеслась Ремедиос Прекрасная, у Кунвейро появился роман «Год кометы», в котором красавица Мария надолго повисла в воздухе.
Русский перевод Кункейро увидел свет в 1990 году. Любителю книг был достаточно подойти к лотку и полистать страницы, чтобы сделать открытие. И многие полюбили его «Записки музыканта» и «Человека, похожего на Ореста».
Книги Кункейро – это квинтэссенция магического реализма, где магия становится важнее реальности и запросто смешивается с ней. Кункейро осуществляет этот переход наиболее прямолинейно, минуя историю, социальный протест и прочие «писательские задачи». Поэтическое объяснение всегда выше научного, а больше всего поэзии порождает самый прозрачный язык.
Как ни посмотри, а таких писателей, как Кункейро, очень мало. И это правильно, что они остаются с нами навсегда и даже могут принести своё настроение в наши сны и творческие фантазии.13
ЛЕКТОР: ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ НЕМЦЕВКандидат филологических наук, доцент Самарского университета, главный библиотекарь СМИБС. Преподавательская деятельность с 2000 года. Ведущий проекта "Лит-механика" и курса "Уроки русской литературы". Лектор авторских курсов по мифологии, религиоведению и антропологии. Курсы лектора широко представлены в Школе юнгианского психолога (Санкт-Петербург), где он читает курсы по мифологии, религиоведению и антропологии. Его лекции также востребованы в кинематографической школе TheOneFilm (Москва) по анализу шедевров мирового кинематографа. Леонид Немцев — автор романа "Две Юлии" (Москва, 2017), поэт и сценарист. Его лекции по мифологии, религиоведению и литературе раскрывают глубокие философские и культурные аспекты, оказывая влияние на восприятие культуры и психологии. |
Задайте вопрос или поделитесь впечатлениями :)
Мы с удовольствием отвечаем на ваши письма